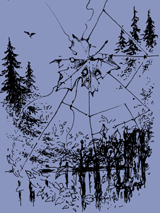|
|
|
|
на исходе двадцатого века Эти стихи – объяснительная записка. «Зверь, нечеловек, псих» – такова «беспощадная оптика» сегодняшнего дня. Каков поп, таков и приход. Каков мир, таков и поэт. Он мрачно шутит или бубнит что-то на первый взгляд невразумительное, а на второй и третий – исполненное смысла (если таковой возможен в этом абсурдном мире). Только чу! – покачнулось чугунной цепи звено, Не вдохновилось, значит, тем, что увидело вокруг. Более того, ужаснулось и залезло обратно. А те, кому лезть некуда, остались и, ужаснувшись, начали писать стихи. Ведь ужас – почти такой же мощный стимул, как восторг. Тебя берут на мушку, Но визжать как-то не очень получается. Куда лучше даётся горький смешок, смешной стишок, невнятное бормотанье или строки, написанные сухим, почти деловым тоном. Никаких пьяных или трезвых слёз, никакой влаги. Барометр показывает «великая сушь». Даже если и говорится про слёзы, то говорится сухо. Здесь когда-то ты жила, старшеклассницей была, Разве не метафизический ужас диктует эти «частушечным стихом» написанные строки? Но писать навзрыд сегодня вряд ли возможно. Запас слёз исчерпан. Как и запас высоких слов. Исчерпан не данным поэтом, а всеми предыдущими. Душа идёт вразнос, а ритм остаётся прежним – плясовым. Никакого захлёба, никаких бурь, никакого града слёз на бумагу. «Февраль. Достать чернил и плакать» возможно теперь только в кавычках. Чем сдержанней тон, тем выше напряжение. Всё ждёшь взрыва, который, если и происходит, то неявно. Все катаклизмы – внутренние, подобно внутреннему кровоизлиянию или закрытому перелому. Феноменальность жизни моей, шага, Всё произносится ровным лишённым модуляций голосом: коченеющее утро, шаги, человек в чехле кожи, замёрзшие пальцы ног. И вдруг в последней строке три взрывных слова – «удар, прицельный, срок». Кажется, что подобно существующему в чехле кожи человеку, все слова в стихе были зачехлены. И вдруг тремя рывками с них сдёрнули чехол и обнажили голый нерв. это не гром прогремевший Витюра раскурил окурок хмуро. В поэзии, как и в искусстве в целом, прогресс невозможен. Но возможно, а вернее, неизбежно одно – полная смена аппарата. Поэту, как волку из «Сказки про козу и семеро козлят», перековали горло. Он больше не может петь, как Есенин, греметь, как Маяковский, захлёбываться, как Пастернак, неистовствовать, как Цветаева. Но он может другое: говорить бесстрастным голосом, когда хочется выть, шутить, когда хочется плакать, множить прозаизмы, когда тянет слагать стихи, цедить сквозь зубы, когда хочется клясться в вечной любви. Мне не хватает нежности в стихах, Так писал поэт с недоперекованным горлом. Остался в нём неизжитый есенинский плач, какая-то непрошеная открытость и бесшабашность. Его не устраивала муза, которая прячет слёзы. Может быть, в этой несовременности крылась одна из причин того, что он так трагически рано сорвался с орбиты. Трудно жить «лица не пряча, сердца не тая», когда стрелка барометра упорно показывает «великая сушь». Правда, попытка жить с сухими глазами и говорить сухими словами дорого даётся. Хотя жить, не пряча слёз и «сердца не тая» тоже не просто. Впрочем, истории важен только сухой остаток, то есть, стихи. 2001 |