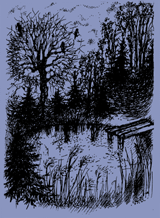|
Читаю Жана Кокто, его брошюру о музыке «Петух и Арлекин». Никогда не думала, что этот, судя по воспоминаниям, эксцентричный и непредсказуемый enfant terrible, так ясно и благородно мыслит. Посвящая брошюру своему другу – композитору Жоржу Орику, Кокто в частности пишет: «Ведь музыканты вашего возраста провозглашают богатство и благодать поколения, которое никому не подмигивает, которое не надевает маску, не отвергает ничего сходу, не прячется, не боится любить и защищать то, что любит.» Всё это звучит удивительно современно. Он перечисляет именно те качества, которых так катастрофически не хватает сегодня. При явном дефиците любви и готовности её защищать – избыток пересмешничества, подмигивания, беспредметной иронии. Вместо лица – имидж (маска, о которой говорит Кокто). Вместо открытого разговора – кривые ухмылки, суетливое желание попасть в тон, выглядеть, как все – лихим, крутым, циничным.
В конце восьмидесятых мы испытали шок. Рухнула прежняя жизнь. Всё, что казалось устоявшимся, незыблемым, нерушимым, перестало существовать. Сдвинулась гробовая плита, и прозвучало: «Встань! Иди!» Легко сказать. Но куда итти и как жить в изменившихся условиях? В результате сильного шока организм даёт сбой. Его реакция непредсказуема. Можно ослепнуть, начать заикаться, вообще онеметь. Наверное, нечто подобное испытали утратившие родину и оказавшиеся на чужой земле эмигранты первой волны. Но шок может привести не только к потере – зрения, слуха, памяти, речи – но и к обретению. Слепой может прозреть, немой – заговорить. Георгий Иванов был поэтом и до эмиграции. Но то, что называется даром речи, он обрёл на чужбине. Испарился романтический флёр, пропал псевдопоэтический словарь, исчезла литературность. Появился духовный реализм, жёсткость, трезвость, горькая ирония.
Невероятно до смешного:
Был целый мир и нет его...
Вдруг – ни похода ледяного,
Ни капитана Иванова
Ну, абсолютно ничего!
Эти строки так сильно действуют потому, что сквозь иронию проглядывает много чего другого: нежность, ностальгия, память, отчаяние. За иронией, характерной для сегодняшней поэзии, чаще всего не проглядывает ничего.
Россия мати,
Свет мой безмерный!
Хочу сказати нелицемерно:
В тебе живу я,
тебя ревную,
какого ж хуя
ещё взыскую?...
~ ~ ~
Может, вообще ограничиться только цитатами?
Да неудобно как-то, неловко перед ребятами.
Ведь на разрыв же аорты, ведь кровию сердца же пишут!
Ну а меня это вроде никак не колышет.
С пеной у рта жгут Глаголом они, надрываясь,
я же, гадёныш, цитирую и ухмыляюсь.
Не объяснишь ведь, что это не наглость циничная,
что целомудрие это и скромность – вполне симпатичные!
И не надо объяснять. Уже давно ясно, что подобные стихи сыграли свою историческую роль – сбили поэзию с котурнов, избавили от излишнего пафоса и свойственной советским временам задушевки, подёргали чересчур серьёзного читателя за нос. Ну и хватит. Оказывается, не хватит. Выходит книга за книгой, и в каждой – одно и то же:
Если долго не курить –
так приятно закурить!
И не трахаться подольше
хорошо, наверно, тоже. ...
Скучно всё это читать. Наверное, и писать скучно. Просто ироническая маска приросла и не отдирается. А, может, страшно отказаться от стиля, который принёс успех. К успеху привыкаешь, им не хочется рисковать.
А ведь есть у Кибирова удивительные стихи. Жаль, что они в меньшинстве:
Нет мочи подражать Творцу
Здесь на сырой земле.
Как страшно первому лицу
В единственном числе.
И нет почти на мне лица
Последней буквы страх.
Как трудно начинать с конца
Лепить нелепый прах.
Тварь притворяется Творцом,
Материя – Отцом.
Аз есмь, но знаю – дело швах
Перед твоим Лицом.
Слушала сегодня по «Свободе» передачу о симпозиуме, состоявшемся этим летом в Японии и посвящённом литературному процессу в современной России. Опять прозвучали навязшие в зубах речи о конце литературы и культуры в целом. Ведущий программы Александр Генис говорил о надвигающемся конце бойко и с весёлым задором. Видимо, он уверен, что на его век литературы хватит, и ещё будет время порассуждать о её закате и даже обогатить её своими трудами. Удивительно, что неглупые люди не ленятся произносить очередную банальность про пресловутый конец чего угодно – света, театра, культуры, литературы... И как же им уютно в этих закатных лучах. Предчувствие конца их не только не угнетает, но даже бодрит. А кто представлял русскую литературу на японском симпозиуме? Сорокин – прозу, Пригов – поэзию. Это всё равно что судить о красоте тела по записям патологоанатома.
Ещё из Кокто: «Произведение искусства должно удовлетворять требованиям всех муз». Я бы избегала слова «должно» в разговоре об искусстве. После стольких лет несвободы у нас у всех аллергия на это слово. И тем не менее, если произведение искусства что-то кому-то и должно, то музам. Одно из самых сильных впечатлений последнего времени – фильм Бертолуччи «Пленённые». Фильм, оставшийся в тени как у нас, так и за рубежом. Я поняла в чём его несказанная прелесть (да простят мне высокий штиль): этот фильм – стихи. Причём рифмованные и с ясным ритмом. В отличие от западной поэзии, где рифма, как правило, отсутствует, здесь она присутствует в полной мере – звонкая и точная. И даже не присутствует, а вспыхивает. Вспыхивают рифмующиеся реплики, кадры, краски, жесты. И всё это сцеплено ритмом, подобным биению пульса. Он прихотлив и изменчив и задан жизнью, её энергией и волей. Ритм меняется внутри кадра, как меняется в течение дня частота пульса.
Несмотря на свой жанр (что может быть элементарнее мелодрамы?), фильм сложен, но не усложнён. Он сложен естественной сложностью. Той, какой сложна жизнь. И так же, как сама жизнь, прост. Рассказывать это кино всё равно, что пытаться пересказать стихи. Дело не в том, что ОН влюблён в НЕЁ, а в том, как он на неё смотрит, как говорит, как наклоняет голову, как она ест своё авокадо, как протирает узорчатую решётку на лестнице, как загорается в вазочке красный цветок, как вспыхивает свеча, отражённая в крышке рояля, как идёт под дождём случайный прохожий в синем плаще и белых кроссовках. У фильма чистый звук и ясные линии. Он целомудрен, несмотря на то, что делал его изощрённый, искушённый мастер. А, может быть, благодаря этому. Только художник, прошедший огонь, воду и медные трубы, способен сделать такой гениально простой фильм. Техника здесь настолько совершенна, что её перестаёшь замечать. Это та высшая степень сложности, которая кажется простотой. И снова из той же брошюры Кокто. Вот как он говорит о своём друге композиторе Эрике Сати: «Сати учит нас самой большой дерзости нашей эпохи – быть простым.... В эпоху крайних изысков это единственно возможная оппозиция». Наверное, то же самое можно сказать о «Пленённых» Бертолуччи. Скорей всего, именно из-за своей кажущейся простоты фильм остался в тени.
Этот фильм для меня – поэзия. Интересно впомнить стихи, которые сродни кино. Первое, что мне пришло в голову, это поразительно лаконичное и ёмкое стихотворение Ходасевича:
Было на улице полутемно.
Стукнуло где-то под крышей окно.
Свет промелькнул, занавеска взвилась.
Быстрая тень со стены сорвалась –
Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг – а иной.
Чем не мгновенный кинокадр, в котором есть всё: и звук, и свет, и динамика, и напряжённая атмосфера надвигающейся катастрофы, и резкая, неожиданная, шокирующая смена ракурса в двух заключительных строках. Стоящая под ударением буква «а» заставляет слова «счастлив» и «падает» звучать, как крик. Крик отчаяния, и одновременно освобождения, избавления от рутины, морока и несуразностей жизни.
Даже не знаю стоит ли возвращаться к банальной теме конца искусства, и, в частности, литературы, возникшей в связи с японским симпозиумом, но фильм Бертолуччи свидетельствует об одном – жизнь продолжается. Ощущение конца возникает лишь тогда, когда слишком хлопочешь о том, чтобы сделать небывалое и всех удивить. Чаще всего в этом случае обнаруживаешь, что выдумал велосипед. Вряд ли это чувство появляется, когда занят лишь тем, чтобы адекватно выразить себя в данный момент. Составляющие наш мир элементарные частицы всё ещё таят в себе нерастраченный заряд и способны на многое. Достаточно малого сдвига, неожиданного ракурса, слегка изменившейся интонации – и старое начинает звучать по-новому:
счастливая с виду звезда
с небес обещает всю ночь
пока под мостом есть вода
любить эту воду как дочь
пока остаются поля
а мимо бегут поезда
и в море уходит земля
любить обещает звезда
До неприличия затёртые слова – вот что наличествует в этом восьмистишии Дениса Новикова. Но всё не так просто. Если «счастливая звезда» знакома всем, то «счастливая с виду» – вряд ли. И обещание звезды «любить эту воду как дочь», весьма интересно. А обещание, повторенное дважды, (да ещё с немыслимой рифмой «звезда – поезда»), окончательно убеждает нас в том, что это стихи. И необычны они вовсе не тем, что отсутствуют знаки препинания, а тем... Впрочем, уже и так всё ясно.
И снова возвращаюсь к фильму. Единственно, что мне мешало полностью в него погрузиться – это перевод. И дело не в содержании. Огромную роль в фильме играет голос, его особый тембр, неподражаемая интонация, совершенно своя, ни на кого не похожая манера говорить у каждого из героев. Может ли бесцветный (пусть даже небесцветный) голос переводчика не разрушить неповторимую ауру картины? Слава Богу, ему не удалось полностью заглушить оригинальный звук. А если бы фильм был дублирован? Дубляж равноценен замене оригинальных стихов переводными.
Читая эссе знаменитого мексиканского поэта Октавио Паса о переводе, наткнулась на такое высказывание: «В идеале цель поэтического перевода, по исчерпывающе точной формуле Поля Валери, состоит в том, чтобы оказывать то же самое воздействие другими средствами.» Но возможно ли это? Голос неповторим. Тот же Пас в своём эссе пишет: «Понять стихотворение – значит прежде всего его услышать. Слова входят через слух.... Читать стихи – значит слушать глазами...». Если вспомнить слова Мандельштама о том, что он работает с голоса, то выходит, что голос имеет для поэзии решающее значение и заменить его – пусть даже прекрасным, но иным – значит создать другое произведение. Когда я читаю переводные стихи, я не знаю, что читаю. Оригинал? Стихи переводчика?
Писание стихов – это мучительная попытка прорваться к себе и к другому. Оба эти этапа давно сформулированы Тютчевым: «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?» Стихи есть удачный или неудачный результат такой попытки. Они заряжены энергией заблуждения, позволяющей снова и снова делать эту отчаянную попытку. При переводе закон сохранения энергии не действует. Переводчик работает с готовым материалом, он привязан к тексту. И хотя перевод – это тоже творчество, но оно носит иной характер. Это уже не превращение НИЧТО в НЕЧТО (как у поэта), а превращение НЕЧТО в НЕЧТО ДРУГОЕ. Оба эти занятия – попытка с негодными средствами, и всякая удача на этом пути – чудо.
После второго тютчевского вопроса я бы поставила не один, а несколько вопросительных знаков. «Другому как понять тебя???» Нужен ли поэту (и вообще художнику) другой? И всегда ли он есть? А если есть, то захочет ли понять? А если захочет, то возможно ли это в принципе?
И опять о фильме Бертолуччи – одном из самых сильных потрясений последних лет. В доперестроечные времена его бы назвали камерным. Но в этой камерной ленте затронуты глобальные вопросы человеческого существования. И среди прочих – проблема творчества. Режиссёр делает это лёгким касанием, одним штрихом, но этот штрих стоит многих глубокомысленных слов об одиночестве художника в этом мире и пр. и пр. Главный герой – пианист, который большую часть времени проводит в четырёх стенах за роялем. У него нет слушателей, и неизвестно нуждается ли он в них. Живущая в его доме молодая африканка, в которую он страстно влюблён, исполняемую им музыку не воспринимает. Она воспитана на других звуках и ритмах. Так для кого он оттачивает своё мастерство? К кому обращается? К самому себе, наверное. Видимо, для него это единственный способ общения с собой и с окружающим миром. Но вот он сочинил произведение, которое решил исполнить на домашнем концерте, и собрал тех, кому давал частные уроки. Впервые за долгое время он играл для других. Поначалу стояла сосредоточенная тишина, на лицах было написано внимание. Но его хватило ненадолго. Кому-то захотелось фанты, кого-то отвлёк шум за окном, кого-то упавший с верхнего этажа мяч. Слушатели разбрелись. В комнате остался только один уснувший мальчик. Но пианист продолжал играть. Он играл с той же отдачей, что и всегда. Он снова оказался наедине с музыкой и самим собой – вернулся к самому привычному и естественному для себя состоянию. Может ли быть иначе? Может.
Об этом замечательный рассказ Ирины Поволоцкой про юного музыканта, которому однажды посчастливилось попасть на концерт Великого Скрипача: «И уже бедному школяру чудилось, что это его неловкие руки освятили бумажный лист с линейным пятистрочием. Что это его вдохновенные каракули выводил смычок гения, замершего на сцене в исступлённой стойке сверчка-кузнечика-музыканта. И мальчику показалось (не забудьте, он был так юн) – ему не перенести следующего звука. И тогда Скрипач сделал паузу. Она длилась мгновение, но жизнь музыкального дитяти... вместилась в паузу между нотой, которая прозвучала, и той, которую он с таким страхом жаждал...».
И всё же подобная реакция – большая редкость и воспринимается не иначе, как чудо и подарок судьбы. Несоответствие между душевными затратами творца и поведением потребителя – вещь обычная. Художник всегда выкладывается полностью. Арсений Тарковский говорил, что даже плохие стихи писать трудно. А раз художник так щедро себя тратит, то он невольно ждёт того же от реципиента. Один известный актёр рассказывал, что был абсолютно раздавлен, когда, кончив свой монолог, исполенный, как ему казалось, с огромным воодушевлением, увидел, что мир не перевернулся и всё стоит на своих местах.
Но если учесть, что потребитель не столь уж искушён, внимателен и сосредоточен, и его реакция почти всегда слабее той, которую художник ждёт, то зачем ему, художнику, так уж биться над каждой деталью, зачем этот «поиск фона, поиск тона, поиск нужного наклона непокорной головы»? Сойдёт и так. Но в том-то и дело, что не сойдёт. Даже при самом беглом взгляде можно оценить, с чем имеешь дело – с поделкой или с подлинным. Об этом кричит любая деталь. Сергей Юрский рассказывал, что однажды, когда в сотый раз повторял какую-то фразу, которая никак не давалась, кто-то из коллег посочувствовал: «Да брось ты. Всё равно никто не заметит». На что Юрский возразил, что заметит, сам не знает что и почему, но заметит – от мелочи зависит то, как прозвучит всё в целом.
Мирясь с реальным положением вещей, будем всё-таки втайне надеяться на чудо – на то, что у поэта где-то есть читатель, который сам подобен поэту, у музыканта – слушатель, который ждёт следующей ноты, как манны небесной. Впрочем, я всегда вспоминаю пианиста из фильма «Пленённые», чьи слушатели разбрелись, оставив его наедине с музыкой. Лицо музыканта не выражало ни обиды, ни разочарования – только сосредоточенность. Всё было, как обычно: он играл в одиночестве в четырёх стенах.
2000
|