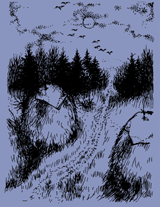|
Я даже не заметила, как начался спектакль. Думала, что актёры просто общаются друг с другом в ожидании публики: в тот вечер на дорогах по какой-то причине были пробки, и многие опаздывали. Но даже когда стало ясно, что представление началось, чувство, возникшее вначале, не пропало. По-прежнему казалось, что мы случайно стали свидетелями чужого разговора, который нас так сильно задел, что, вместо того, чтобы встать и уйти, мы продолжаем сидеть и слушать. Да ещё и встрять готовы. Спонтанность, ощущение, что каждая реплика рождается здесь и сейчас, присуща всем пьесам Евгения Гришковца: и спектаклю «Записки русского путешественника», поставленному Райхельгаузом в Театре Современной Пьесы, и исполняемой самим Гришковцом монодраме «Как я съел собаку», и другим. «Текст можно дополнять собственными историями и наблюдениями. Те моменты, которые особенно не нравятся, можно опускать», – пишет Гришковец в примечании к пьесе «Как я съел собаку». Рискованное предложение. Неужели автор не боится чужого вторжения? Неужели не опасается, что будет разрушена его аура? Но вот Стеклов и Бочкарёв, замечательно играющие в «Записках русского путешественника» поступили, как предлагает автор – дополнили пьесу своими историями, но авторскую интонацию сохранили. И как не дополнить? Ведь Гришковец пишет о том, что было или есть у всех – о детстве, школе, родителях, друзьях, природе, о разных житейских мелочах. Сказала – «пишет» и удивилась: неужели – пишет? Его пьесы выглядят, как импровизация, устное творчество, не зафиксированное на бумаге. Но совсем недавно в магазине «Театральные книги» на Страстном бульваре я купила тонкий сборник с двумя пьесами – «Зима» и «Как я съел собаку» («Новая пьеса», 1999 г.) – и обнаружила, что они прекрасно читаются. То, что воспринималось, как устная речь, абсолютно нечитабельная при механическом перенесении на бумагу, оказалось замечательным текстом – лёгким, живописным, пластичным, насыщенным. И к тому же сохранившим свою спонтанность. Слова-паразиты типа «ну», «в смысле», «как бы», «как-то» оказались на месте и не только не утяжеляли фразу, но даже добавляли ей живости и энергии. Судите сами:
«Но тут было дело посерьёзнее, здесь было... Это, как, знаете... Идёшь в школу, темно, потому что зима. Всё очень знакомо, все звуки мешают жить. Ну, вот такая тропиночка по снегу, деревья, снег. Впереди маячат другие бедолаги, какие-то мамы дёргают вялых первоклассников. Снег, ветки, холодно.» Это автор о себе пишет. И обо мне. И о вас. Потому что именно так ходят тёмным зимним утром в присутственное место. «Снег, снег» – твердит автор, силясь передать свои ощущения. «И ты идёшь, но это хуже всего, это горе, это нестерпимая...», – заикается он, понимая тщету своих усилий.
– Хватит. Не продолжай, – хочется сказать автору, – мы уже всё увидели: и тропиночку, и снег, и деревья, и фигурки в темноте. Именно так и бывает.
– Как – так? Я же ничего ещё не сказал, – вправе удивиться автор.
– Разве не сказал? А мне показалось, что сказал.
– Нет, я только произнёс: «Это, как, знаете...».
– Но этого достаточно. Больше ничего и не надо.
Какой абзац в пьесе ни возьми, – снайперское попадание. А из чего и чем стреляет автор – непонятно. И ладно бы такое чувство возникало, когда речь идёт о знакомых вещах. Но вот я читаю про армию, в которой никогда не служила, и опять узнавание. Почему? Да потому, наверное, что людская психология везде одинакова. Я не служила в армии, но училась в школе. Не занималась строевой подготовкой, но сидела на комсомольском собрании. Не драила туалеты и палубу, но вкалывала на целине. И самое интересное, что, как недавно выяснилось, для подобных эмоций совсем не обязательно быть российским гражданином. Я с изумлением узнала, что на театральном биеналле в Бонне зарубежный зритель реагировал точно так же: бил себя по коленкам и приговаривал что-то, что можно перевести как : «Ну надо же! Это прямо про меня!» Уверена: дай такому зрителю волю, разреши поучаствовать в спектакле, он сделает это с удовольствием, дополнив пьесу сценками из собственной жизни.
В одном из недавних номеров «Лит. газеты» (кажется, в 3-м за июль) было напечатано интервью с голландским режиссёром Йосом Стеллингом, в котором он, в частности, рассказал, как однажды посетил со своими детьми суперсовременный похожий на планетарий кинотеатр, где посмотрел два фильма: «... один из них был о Вселенной, а другой – о путешествии внутри человеческого организма. Так вот, особых различий нет, – говорит Стеллинг. – Организм – такая же Вселенная. Те же самые образы, та же система. Ты можешь сосредоточиваться на своём внутреннем мире, что дешевле и проще; а можешь на сакральном и вселенском...». Гришковец сосредоточился на внутреннем, и мы с восторгом следуем за ним. Такие удивительные, хоть и давно всем известные вещи происходят на планете «Человек». Сначала ты вообще «рыбка с хвостом», потом весишь три с половиной килограмма, а потом «бегаешь, бегаешь целый день по двору, орешь, хохочешь, выдумываешь всякие странные затеи. Ручки-ножки новенькие такие, ничего не болит... Или бегать – бегать, а потом упасть в снег и увидеть, ВДРУГ, ночное небо, звёзды, и думать о бесконечности... "БЕСКОНЕЧНО", как взрыв. Перехватывает дыхание...».
Планета «Человек» – во Вселенной, конечное – в бесконечном, вселенский масштаб, в котором существуют предельно малые величины – вот что поражает в пьесах Гришковца. Смотрит ли герой мультики, в строю ли стоит, письмо ли домой пишет, – «но вдруг, придёт в голову мысль – наш корабль плывёт по поверхности планеты Земля. Это мировой океан, а по его поверхности плывёт железный такой..., а на нём 128 человек. А вокруг воздух, а дальше – космос, другие планеты». Но даже если бы и не было слов о вечном, космический масштаб присутствовал бы всё равно. Трудно сказать, по какой причине это происходит. Может быть, благодаря тому, что автор, нигде не застревая, легко перескакивает из одного времени и пространства в другое. А многоточия, которыми пестрит текст, как будто специально оставлены для того, чтоб мы, припомнив что-то своё, откликнулись на авторскую реплику, и чтоб в результате возникло эхо, некий гул, усиливающий звучание сказанного. Удачное он место нашёл для своих монологов – место, где возникает эхо.
Только не оказалось бы всё это тупиком. А такая опасность существует. Автор повторяется. Я это заметила, когда после спектакля в Театре Современной Пьесы смотрела монодраму «Как я съел собаку» в исполнении самого автора. Оба спектакля очень хороши. Но интонация, слегка спотыкающаяся манера говорить, даже отдельные выражения («из себя», например) – всё знакомо. У Гришковца свой ни на кого не похожий почерк. Он пишет свежо. А писать свежо – как носить слишком маркую одежду: каждое пятнышко в глаза бросается. Такому автору надо себя особенно блюсти. И уж, конечно, не повторяться. Повторяться для него – всё равно что производить продукт второй свежести.
Легко сказать – не повторяться. Но все его пьесы – принципиально бессобытийны. Это всегда поток сознания, внутренний монолог, остающийся монологом даже тогда, когда его произносят двое, трое. Много ли можно наплодить таких пьес? К тому же, они не сценичны. Их трудно ставить. Вот сделал Шамиров спектакль «Зима» – шумный, пёстрый, с разными наворотами, а смотреть невозможно. "Poshlost", – как выразился бы Набоков. К Гришковцу этот спектакль никакого отношения не имеет. Вместо одинокого голоса человека, каким является театр Гришковца, – несусветный ор, от которого у актёров краснеют лица и набухают жилы на шее. Это тот случай, когда сотворчество, к которому приглашает автор, рождает чудовищ.
Впрочем, не будем стоять над душой у художника. Предоставим ему самому решать, что с собой делать дальше.
А пока поздравим друг друга с тем, что появился совершенно новый, абсолютно современный театр – театр Гришковца. Не элитный, не массовый, обращённый не к публике, а к отдельному, блуждающему в пространстве и во времени человеку, о котором поэт сказал: «Как страшно первому лицу / в единственном числе».
2000
|