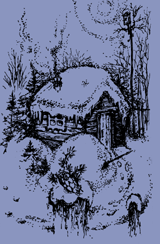|
Пронеслася и унеслася. Нынче чувства не в моде. Чю-ю-ювства – это фи, дурной тон, их следует стесняться. Слезливость, слюни, сопли, близкое по звучанию английское sloppy – все эти жиденькие, уничижительные слова означают одно – сентименты, то есть нечто отжившее, старомодное, как дамский капор или муфта, как домашнее музицирование юной девы, сладкоголосый Чайковский, монолог Наташи Ростовой у распахнутого окна, фетовское «Шепот, чудное дыханье, трели соловья». Недаром нынче так любят по-новому ставить классику, уж так по-новому, что живого места не сыщешь. И главная режиссёрская задача – избавиться от чувств, чтоб всё, что было всерьёз, стало понарошку, «всё, что было раной, оказалось шуткой, и немножко странно, и немножко жутко.» Зато современно.
Впрочем, ограничусь поэзией. «И неплохо бы, конечно,/ чтобы сладкий голос пел,/ чтобы милый друг сердечный/ тут же рядышком сопел!» – вот такие сегодня стихи потому что «Шишел-мышел вышел вон!/ Наступил иной эон./ В предвкушении конца/ – ламца-дрица гоп цаца!» Вот вам и девиз эпохи – ламца-дрица гоп цаца. Даже скупая мужская слеза содержит больше влаги, чем требуется. Суше, суше, ещё суше. Желательно с иронией. Можно с едкой, можно с горькой, можно просто. Лишь бы с иронией. Потому что без неё – что за разговор?
Всё уже было, все соловьи уже отщёлкали, остались только пересмешники: «Вот снова окошко, где снова не спят./ То выпьют немножко, то так посидят…»; «На холмах Грузии лежит такая тьма,/ что я боюсь, что я умру в Багеби…»; «На даче спят. Гуляет горький/ холодный ветер. Пять часов./ У переезда на пригорке/ c усов слетела стая сов.» Рецепт таков: нарезку из классиков поместить в весьма заниженный контекст, состоящий из легко узнаваемых реалий и жаргонных словечек, и всё это спрыснуть пофигистски ироничной интонацией. А как может быть иначе, если «всё сказано. Что уж тревожиться/ и пыжиться всё говорить!/ Цитаты плодятся и множатся./ Всё сказано – сколько ни ври.» Неужели всё? Но у тех же Ерёменко, Кибирова, Новикова можно найти стихи без цитат и ёрничанья (ну разве что с юмором), которые звучат абсолютно свежо. Правда, нынешняя поэзия так приучила к стёбу, что всякая неожиданно сверкнувшая лирическая строка кажется стилизацией. К тому же потерявшие бдительность и впавшие в лирику поэты, настолько этого пугаются и так неловко себя чувствуют, что и читатель ( я, например) невольно начинает испытывать беспокойство и успокаивается лишь тогда, когда снова натыкается на цитаты, сопровождаемые привычной иронией. Создаётся впечатление, что поэт то и дело себя одёргивает: «Друг Аркадий! Не говори красиво.»
В самом деле. Можно ли в наше циничное, катастрофичное, технологичное, алогичное, такое-сякое время разводить лирику? Да и кто это будет слушать? Разве что какой-нибудь реликт, который случайно не вымер. Но стоит ли для него стараться? Да и получится ли, если обладаешь не бель канто, а сиплым, совсем немелодичным голосом, который годится лишь для насмешки и ироничного умствования? Но вот что интересно: этим голосом можно так говорить, что заслушаешься: «Всё сложнее, а эхо всё проще,/ проще, будто бы сойка поёт,/ отвечает, выводит из рощи,/ это эхо, а эхо не врёт./ Что нам жизни и смерти чужие?/ Не пора ли глаза утереть./ Что – Россия? Мы сами большие./ Нам самим предстоит умереть.»
«Не пора ли глаза утереть» – вот лозунг поэтической эпохи. День попрежнему ненагляден, ночь безоружна, сума пуста, душа беззащитна, но научились жить без слез. К тому же есть чужие строчки, которые можно переиначить и пустить в дело, когда не хочется говорить всерьёз. Есть близкие по звучанию слова, которыми приятно поиграть: «медикаменты комедианты/ белый товар/ клейкие ленты атласные банты/ чёрный отвар». Есть в конце концов и другие возможности: «Вот, бля, какие бывали дела –/ страсть моё сердце томила и жгла! / Лю, бля, и блю, бля/ и жить не могу, бля,/ я не могу без тебя!» Если у лучших поэтов подобные строки перемежаются с другими – такими, которые трудно забыть, то у тех, что поплоше, нет ничего, кроме стёба. Такова программа. И не потому что мы большие, умудрённые жизнью, искушённые, разочарованные и усталые, а потому что не взрослые и инфантильные, закомлексованные отроки, которые, стесняясь маминой ласки, густо краснеют и басят что-то грубовато-нечленораздельное. Хорошо ещё, если не отпихивают мамину руку, пытающуюся пригладить непокорный вихор. Только подростки стесняются проявления чувств, как своих прыщей. Только они убеждены, что всё уже было и ни о чём нельзя всерьёз, что о любви можно лишь с матерком и кривой ухмылкой, о прошлом и будущем – небрежно и с ехидцей.
Так что у нас ещё всё впереди. Нам ещё предстоит вырасти, возмужать и перестать стесняться самих себя, прикрываясь иронией как ширмой. Впрочем, ирония это совсем неплохо, если в меру. А если не в меру, то она, ядовитая, способна прожечь до дыр самую ткань жизни. И останется только принимать дрань и рвань за единственную реальность. Хотя вряд ли слово, даже едкое, обладает такой властью над жизнью. «Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова.» Она течёт себе и течёт, а мы вольны высказываться по её поводу, как нам Бог на душу положит (если захочет, конечно). Неужели весь этот стёб, эти неуёмные ужимки и прыжки тоже от Него? Впрочем, Ему виднее. Он знает, что делает. Может, всё это надо для того, чтоб очнулись от долгой спячки давно потерявшие свежесть «Кустарники. Звёзды. Вода», и чтоб поэт, устав от собственных ухмылок, вдруг почувствовал, что «все колыханья, касания,/ мерцанья Пресветлой слезы/ опять назначают свидание/ и просятся вновь на язык.»
2000
|