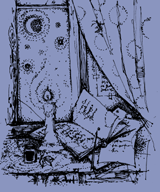|
Юрий Карабчиевский. Воскресение Маяковского. Эссе. – «Русские словари». М. 2000.
«Что слышится русскому уху при слове "эссе"? – пишет Карабчиевский, – Ему слышится нечто обтекаемо-светское, респектабельное, обобщённо-культурное. Наши разодранные, напряжённые споры, наши непристойно отверстые раны едва ли подходят под эту конструкцию – среднего рода, неизменяемую, симметричную, с двойным свистящим "с" и манерным "э"...». «Общение – цель искусства», – считал он. «Интимное, предельно доверительное общение – цель поэзии». Всё тоже самое можно сказать про любую написанную им страницу. Его эссе – скорее исповедь, чем учёные штудии.
Признаюсь, я со страхом брала в руки книгу. Ведь собранное в ней писалось давно. А вдруг всё это устарело и разговор будет, по выражению самого автора, немного вчерашним. Но, начав читать «Улицу Мандельштама», я с радостью обнаружила, что каждое слово «работает». И с новой силой ощутила как не хватает сегодня юриной всамделишности, натуральности, страстности, пристрастности, печали, юмора, нежности. Да-да, нежности, как ни странно это звучит, когда речь идёт об авторе жестокого, хоть и блестящего, романа «Воскресение Маяковского». Но недаром говорится, что от любви до ненависти – один шаг. В данном случае ненависть – издержки прежней любви. Карабчиевский – максималист во всём. И в собственной судьбе тоже. Иначе он бы не покончил с собой на гребне литературного успеха. Несмотря на безграничную преданность писательскому труду, который Карабчиевский полагал занятием жертвенным, жизнь всегда была для него первична, а слово – вторично. И, как это ни парадоксально звучит, но именно благодаря своей вторичности по отношению к жизни (а значит, выстраданности), слово Карабчиевского сегодня задевает за живое не меньше, чем десять, двадцать лет назад. И не столь уж важно о чём оно – о Маршаке (по поводу которого вряд ли стоило так горячиться), о Симонове, о песнях Окуджавы и Галича, о «Пушкинском доме» Битова. Важно, что о говореном-переговореном ( а как ещё может быть, если в книгу, среди прочего, вошли статьи и наброски, написанные в семидесятые, восьмидесятые, в начале девяностых?) сказано так, что всё это читается и сегодня. Карабчиевский на редкость точен. Слово его заряжено колоссальной энергией. Он никогда не занудствует и не «размазывает» (выражение из его лексикона). В очерке «Улица Мандельштама» Карабчиевский пишет, что поэт всегда перескакивал через очевидное, стремясь при этом к предельной ясности. «Его недомолвки ни в коем случае не способ затемнить стих, но естественное избегание банальности и тавтологии в разговоре с понимающим и близким собеседником». Эти слова можно с полным правом отнести и к автору цитаты. Краткость и ясность изложения, отсутствие провисов и вялых, безмускульных мест – вот что характерно для его стиля. «Улицу Мандельштама» хочется читать вслух, потому что она хороша не только по мысли, но и по звучанию. Послушайте, как он пишет о мандельштамовских белых стихах, «...ниспадающих широкими элегическими волнами, то здесь, то там, как точечной сваркой, прошитые случайно разбросанными рифмами...».
Перечитывая сегодня это эссе, я вспоминаю как случайно наткнулась на него в середине 70-х в крамольном по тем временам зарубежном журнале «Вестник РХД». Очерк неизвестного мне Карабчиевского настолько меня потряс, что я постоянно таскала журнал с собой, и при каждом удобном случае зачитывала куски друзьям. Кончилось тем, что я оставила чужой да к тому же запрещённый журнал в телефоне-автомате. Карабчиевский писал так раскованно и свободно, что сомнений не было – он эмигрант и живёт на Западе. Могла ли я предположить, что мы соседи по Тёплому Стану и разделяет нас лишь один вечно перекопанный пустырь.
Знаете какое слово наиболее часто повторяется в эссе о Мандельштаме? Свобода: «Свобода обращения Мандельштама со стихом – свобода его обращения в стихе – поистине поразительна...», «Так свободен может быть только человек, втоптанный в землю железными сапогами века...». Слово «свобода» красной нитью проходит через всю книгу. О чём и о ком бы ни писал Карабчиевский, он пишет о внутренней свободе. С этой точки зрения он оценивает художника, его произведение и время.
Есть ещё одно цементирующее книгу понятие – разговор, общение. С этих слов книга начинается, ими же и кончается. В «Заметках о современной литературе» Карабчиевский приводит такие строки Тимура Кибирова: «Спросишь ты: "А ваше кредо?" Наше кредо до сих пор – "Задушевная беседа, развесёлый разговор!"».
Удивительно цельную книгу удалось составить Сергею Костырко. Ничто в ней не кажется случайным, лишним. Чрезмерная категоричность некоторых высказываний смягчена цитатами из более поздних произведений. Некоторые статьи собраны составителем из черновых набросков и записей. Но их незавершённость и фрагментарность делают книгу ещё более живой.
Меньше всего мне бы хотелось говорить о «Воскресении Маяковского». Во-первых, потому что об этой вещи всё сказано. А во-вторых, потому что сам автор в конце жизни изменил к ней отношение. «Мне всё меньше нравятся те, – говорил он, – кому нравится мой "Маяковский"». Об этом свидетельствует и авторское послесловие к роману, написанное в 89-ом году.
Великое достоинство Юрия Карабчиевского в том, что он, оставаясь собой, умел меняться и менять отношение. Ему, как и всем людям его поколения, совсем не просто было постигать новые перестроечные путаные противоречивые и весьма драматичные времена, а также рождённую ими литературу. Но он не коснел в своём, привычном, не отвергал новое с порога, а вслушивался, вглядывался, вчитывался, вникал. Из сделанных им черновых записей сложились интереснейшие «Заметки о современной литературе». Вероятно, сейчас он многое оценил бы иначе. Но вряд ли зачеркнул бы такие слова: «Сегодня нам предлагают литературу, наличествующую в мире лишь как изделие и отсутствующую как разговор с читателем... Холодно, холодно в этих произведениях, пусто и холодно. И, конечно, страшно, но не оттого, что страшна жизнь, в них отражённая, а оттого, что в этой страшной жизни (которая, кстати, всегда страшна) больше не на что опереться и нечем утешиться, больше не с кем поговорить».
А мне по прочтении этой книги хочется сказать: «Горячо, горячо в этих произведениях. И спасибо тебе, Юра, за твою горячность, за твою повышенную температуру, за твой душевный жар. Холодно без всего этого. Пусто и холодно».
2001
|