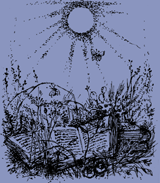Адресую туда-то такому-то,
То ли черту из тихого омута,
То ли ангелу с тихих небес,
Но кому-то, чей призрачен вес
В этом мире...
Последнее время в голове постоянно вертится мандельштамовская строчка: «Я скажу тебе с последней/ Прямотой:/ Все лишь бредни – шерри-бренди, –/ Ангел мой». А еще вспоминаю свидетельство из недавно прочитанной книги Виктории Швейцер «Быт и бытие Марины Цветаевой»: «Поражали задаваемые в лоб вопросы, на которые неловко было отвечать: "К чему все?", "В чем смысл всего?"». Поняла, что хочу того же: «С последней прямотой» задать невесть кому те же отроческие вопросы, которые мучили в восемнадцать лет и которые, наверное, не имеют ответа. Вполне отдаю себе отчет, что деятельному, занятому конкретными вещами человеку подобные разговоры могут показаться «жалким самокопанием» (выражение из недавнего идеологизированного прошлого). Вспоминаю, как мама моей знакомой, отвечая на вопрос, что поделывает ее тридцатилетняя дочь, усмехнувшись, ответила: «Ищет смысл жизни». И все же рискую заняться тем же. Как ведет себя человек, когда ему плохо? Приходит в отчаяние или с головой уходит в работу. Вот и я хочу с головой уйти в работу, что в данном случае означает – еще глубже погрузиться в свои мучительные проблемы. Таково уж свойство моей работы. И кто кого нашел – она меня или я ее – не знаю. Еще будучи студенткой, чуть ли не ежедневно просыпалась с сердечной болью: неужели живу лишь затем, чтоб преподавать английский? Не слишком ли мелкая задача для целой жизни? Такие мысли не помогали сосредоточиться на учебе. К тому же были другие отвлекающие факторы: счастливая любовь, ставшая вскоре несчастной, и другая счастливая любовь, перешедшая в семейную жизнь. Уже окончив институт, я бросилась наверстывать упущенное: начала частным образом заниматься английским с бывшим преподавателем нашего института – милым стариком, который отказался брать деньги, считая уроки моей блажью. Прозанимавшись год, я поняла, что все – НЕ ТО. Но где ТО, не знала.
Все чаще вспоминалась ночь (конечно же, ночь), когда писала стихи, позднее помещенные в нашей студенческой газете:
В чем счастье жизни? Как знаком
Сей давний, но больной вопрос.
И ты меня спросил о том.
Вот мой ответ. Ответ мой прост.
Да счастье жизни в том, чтоб жить,
Жить каждый день и каждый час,
Жить: думать, сравнивать, творить,
Не завтра ждать, а жить сейчас...
(Видимо, случай хронический: всю жизнь – один больной вопрос). Той ночью я чувствовала себя, как Татьяна, пишущая письмо Онегину: озноб и жар, и вдохновенье. Сравниться с этим могла только другая, совсем давняя ночь, когда я, девятилетняя, сочиняла поэму «Двойка»:
Все вышли из класса и мчатся домой,
А я не иду. Что случилось со мной?
Стою одиноко у парты своей,
Не рад я и сам отметке моей.
(Мой лирический герой почему-то мужского рода.)
Вчера я гулял и не сделал урок,
Сегодня с коньками ходил на каток,
А щас (так в оригинале) в моем табеле двойка стоит,
С графы на меня так сердито глядит...
То была жизнь: «Глазами тучи я следил, руками молнии ловил».
В начале 60-х на книжных прилавках лежало множество стихотворных сборников, в периодике регулярно печатались стихи. Моим любимым занятием было таскаться по Москве (Петровка, Сретенка, Кузнецкий) и заходить в книжные магазины. Однажды забрела на Рождественский бульвар и, присев на скамеечку, стала листать «Юность»: стихи, стихи, знакомые имена, незнакомые имена. И вдруг, не знаю почему, достала из сумки тетрадь с планами школьных занятий (я преподавала английский в спецшколе) и, найдя свободное место, написала несколько строк. Потом зачеркнула, написала другие, зачеркнула, вернула прежние и в результате получились стихи о том, что надо почаще смотреть на небо. Этот совет я давала самой себе, рифмуя «небо» и «мне бы». Остальное забыла. Началась НОВАЯ ЭРА. Первый самодельный сборник, переплетенный в желтые обои, помечен 64-м годом. Теперь жизнь представляла собой некий пунктир: пробел, стихи, опять пробел. Когда писала, жила. Остальное время мучилась. Но мучилась активно, пытаясь управлять творческим (выражаясь высоким слогом) процессом: воевала с бытом и службой за свободные часы, в которые, обложившись журналами и книгами, ждала вдохновенья. Но прогулки по лесу оказались плодотворнее сидения дома: ритм шагов помогал думать. Летом я надевала темные очки и чувствовала себя невидимкой – так легче было сосредоточиться. В общем, изобретала много разных приемов и уловок, чтоб написать несколько робких строк, которых от меня никто не ждал и которые стали смыслом существования.
Когда родился старший сын, в мою жизнь вошла природа. В конце 60-х мы жили недалеко от платформы Яуза, и я выгуливала сына в лесопарке за платформой. На лето уезжали в поселок Востряково. Там я вставала рано-рано и, проходя через сад, задевала свисающую с дерева крупную вишню, которая сама просилась в рот, хоть была и не наша, а соседская. Под ногами лежали упавшие за ночь яблоки. Я прибегала к озеру, где в столь ранний час не было ни души, и входила в воду, нарушая ее покой и целостность. «Я вхожу в это озеро, воды колыша,/ И колышется в озере старая крыша,/ И колышется дым, что над крышей струится,/ И колышатся в памяти взоры и лица... » Накупив определителей и открыток, я пыталась узнать, как зовутся птицы и растения. «Какое странное желанье/ Цветка любого знать названье,/ Знать имя птицы, что поет,/ Как будто бы такое знанье/ Постичь поможет мирозданье/ И назначение твое...» Именно тогда появилось ЧУВСТВО ПУТИ, ДВИЖЕНИЯ, мощного воздушного потока, властно влекущего куда-то, появилась вера, что «существует час,/ В который то должно свершиться,/ Что превращает в лики лица/ И над судьбой подъемлет нас».
Внутри постоянно звучало Гетевское: "dahin, dahin" («туда, туда»), ставшее эпиграфом к одному из написанных тогда стихотворений: «Туда, за той цветущей веткой,/ За тем кустом, за серой сеткой/ Того дождя, за той листвой/ Неповторимый праздник твой...» Листая стихи 70-х, обнаруживаю, что помню, когда, где и даже при какой погоде и в какое время суток они возникали. Существовала незримая, живая связь между мной и тем, что меня окружало. Все казалось неслучайным, исполненным смысла: встречи с людьми и книги, которые в нужное время сами плыли мне в руки. (Об этом писала отдельно.) Ни одно явление и событие не было равно самому себе, а принадлежало некоему контексту, в котором роль каждого велика и загадочна. У англичан есть пословица: "Every cloud has a silver lining". Это можно перевести просто: нет худа без добра. Но буквальный смысл гораздо интересней: «У каждой тучи серебряная подкладка». Туч было много, но серебряная подкладка светила всегда. Не знаю, имеет ли смысл говорить здесь о вещах внешних, но кто способен провести четкую границу между внешним и внутренним. Конец 70-х в отличие от 60-х, был глухим и темным, когда все живое изгонялось и пресекалось, когда нечего было и думать пробиться к читателю в неусеченном, непокалеченном виде. Писателю, поэту было все же лучше, чем музыканту, артисту, художнику. Его орудия труда – просты и компактны. Написал, прочел друзьям и убрал до лучших времен. А «лучшие» времена не заставили себя ждать: наступили 80-е и к нам пожаловали с обыском. Вот когда мои папки были развязаны и стихи, включая черновики, перерыты и изучены. Помню, как один гебист толкнул локтем другого и сунул ему под нос какое-то стихотворение. Тот прочел и, хмыкнув, отложил в груду крамолы, которую потом унес с собой. Гордись, поэт, и радуйся, что живешь в России. Правда, сейчас времена изменились: на ТАКОЕ внимание рассчитывать, надеюсь, не приходится. Да и на другое пока тоже.
70-е, 80-е – время потерь и потерь: навсегда покидали страну друзья, навсегда покидали землю близкие. Глухие годы становились еще глуше. Страна постепенно превращалась в зону вечной мерзлоты. Но стихи писались, ПУТЬ продолжался.
И если этот путь продлится,
Неутоленный утолится.
Но птиц осенний перелет
И озеро сковавший лед
Сулят – не будет утоленья,
А будет лишь преодоленье
Печальных верст, печальных миль...
Осиль же их, осиль, осиль.
Вера в скрытый смысл происходящего давала силы даже тогда, когда не на что было опереться. А знание, что любая опора неустойчива, пришло еще в детстве, когда, к ужасу своему, поняла, что мои близкие – не всемогущи: маму можно уволить с работы, где она столько лет дневала и ночевала, дедушкин еврейский акцент может передразнить, потешая приятелей, мальчишка во дворе, и над бабушкой можно смеяться. Помню, как послевоенным летом в Расторгуеве, куда выехал детский сад, где бабушка работала зав. педом, а я ходила в старшую группу, мы обедали на открытой террасе, когда вдруг раздался громкий смех воспитательницы. Подняв голову, я увидела бегущую мимо бабушку. Она страшно кричала и махала руками, пытаясь спастись от пчел, роившихся в ее пышных волосах и жалящих в глаза и губы. Глядя на хохочущую воспитательницу, засмеялись и ребята, а я не знала, куда деваться от стыда и обиды. С годами жизнь все усердней убеждала в хлипкости любой опоры, а мириться с этим становилось все трудней. Особенно, когда появились дети. «Просто быть травой, межой,/ Снега белого щепотью,/ Трудно быть живою плотью/ С уязвимою душой...» Но таинственная диктовка не прекращалась.
Лететь, без устали скользить
По золотому коридору.
И путеводна в эту пору
Осенней паутины нить,
И путеводен луч скупой,
И путеводен лист летучий,
И так живется, будто случай
Уже не властен над судьбой...
Смешно вспоминать, что «Лететь, без устали скользить» я писала, когда была на девятом месяце и тяжело ступала по дорожке осеннего леса. В «Самопознании» Бердяев часто говорит о «гнетущей власти обыденности», от которой его всегда спасала творческая мысль. А для меня повседневность нечто другое.
Обыденность – рай и подарок, и чудо:
Шумела вода и гремела посуда,
Вели разговор, шелестели газетой...
Творился уклад до сих пор невоспетый.
Уклад, бытие и соборное действо,
Рутина отнюдь не святого семейства.
Возможно ль такое: все целы и в сборе,
И в полном покое житейское море.
Подробности земной жизни притягательны и завораживают потому, что всегда освещены для меня светом вечности. Мимолетные и непрочные – они строки, слоги, буквы бесконечного письма или незавершенного стихотворения. И только с таким чувством я могу жить и писать стихи. Любое творчество есть выход за рамки. Ощущение разомкнутости бытия – необходимое для него условие.
Это – область чудес
И счастливой догадки...
Капля светлых небес
Разлита по тетрадке.
Область полутонов
И волшебной ошибки,
Где и яви и снов
Очертания зыбки.
Область мер и весов,
Побеждающих хаос,
Это мир голосов
И таинственных пауз.
Здесь целебна среда
И живительны вести,
И приходят сюда
Только с ангелом вместе.
Так что же произошло? Почему все настойчивее звучит внутренний голос: «НЕТ НИЧЕГО, кроме дурной бесконечности»?
И еще виток, и еще виток,
И еще листвы золотой поток,
И еще один на пути вираж,
И еще один впереди мираж,
И еще подъем, за которым спад,
И еще один шелестящий сад,
А над ним опять облака гуртом...
Эту чашу пьют пересохшим ртом,
Лишь одну на круг на исходе лет,
Открывая вдруг, что исхода нет.
А что, если все эти проблески, просветы, таинства, высший смысл – есть лишь гениальные уловки горемыки, который не в силах смириться с несовершенством мира и конечностью существования? То и дело ловлю себя на мысли, что балансирую на грани банального и смешного. Вспоминаю «картофель безумный» Станислава Лема – особый вид картофеля, обитающий в глубинах космоса и во всем похожий на обычный, кроме одного: иногда он вдруг задумывается о смысле жизни и бренности бытия, впадает в глубокое уныние, самовыкапывается, выползает на дорогу и погибает под колесами проносящихся автомобилей. Воистину, во многой мудрости много печали, и кто умножает знание, умножает скорбь. Но что делать, если мы не можем существовать, как «картофель обыкновенный». Я не философствую, а лишь пытаюсь найти выход из тупика.
Помню, как хирург в травмапункте, вправляя вывихнутое плечо моему двухлетнему сыну, заставлял его, преодолевая боль, набрасывать колечки на пирамиду, которую поднимал все выше и выше. «Ну, ну, – подзуживал доктор, – еще немножко». «Ай», – вскрикнул сын, надевая последнее колечко, и расплакался. «Что ты плачешь? Ну-ка дай лапу». Хирург взял сына за руку и подергал – рука не болела. Может, и мы так – тянемся, тянемся, пытаясь дотянуться до некой точки, где боль отпустит и наступит освобождение, а тянуться-то некуда. Есть только болезненный процесс жизни, альтернатива которому – небытие. «Все лишь бредни – шерри-бренди, – / Ангел мой».
Касаться этой темы так, как это делаю я – дерзость и простодушие: слишком много умных людей на протяжении всех веков размышляло о том же. Но, к сожалению или к счастью, в этой области не бывает прогресса, и каждый начинает с нуля. Чужой духовный опыт не спасает. Когда меркнет внутренний свет, его вряд ли можно зажечь снаружи.
Моя жизнь протекала на стыке земного и небесного, в точке, где, вызывая сильные ветры, встречаются потоки холодного и горячего воздуха. Все романтики в музыке творили на этой границе, и я постоянно испытываю томление, слушая их: вечная незавершенность, стремление к тонике и бегство от нее, тучи на серебряной подкладке, солнце, подернутое мглой. Не сияние, а мерцание. Но можно ли оставаться романтиком всю жизнь, и не является ли тупик, в котором нахожусь, расплатой за то, что не смогла сделать следующего шага по вертикали?
Из пышного куста акации, сирени,
Где круто сплетены и ветви, и листва,
Из пышного куста, его глубокой тени
Возникли мы с тобой, не ведая родства.
Дышало все вокруг акацией, сиренью,
Акацией, грозой, акацией, дождем...
Ступив на первый круг, поддавшись нетерпенью,
Пустились в дальний путь. Скорей. Чего мы ждем?
И каждый божий день – посул и обещанье.
И каждый божий день, и каждый новый шаг...
Откуда же теперь тоска и обнищанье,
Усталость и тоска, отчаянье и мрак?
А начиналось так: ветвей переплетенье,
И дышит все вокруг сиренью и грозой,
И видя наш восторг, шумит листва в смятенье,
И плачет старый ствол смолистою слезой.
Неужто лишь затем порыв и ожиданье,
Чтоб душу извели потери без конца?
О, ливень проливной и под дождем свиданье,
О, счастье воду пить с любимого лица.
Недавно я набрела на интересное высказывание Л.С.Выготского: «"Болезнь-к-жизни" при последовательном ее углублении, вынашивании есть, конечно, не что иное, как petite morte – "маленькая смерть", смерть при жизни, смерть в этой жизни и вместе: СМЕРТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ – Новой. "Маленькая" же она потому, что, как правило, затрагивает лишь часть нашего существа, пусть и очень важную. Иногда "болезнь-к-жизни" – целый ряд таких "маленьких смертей", через которые приходится пройти человеку, "пережить" их, дабы обрести наконец возможность еще одного, пусть "маленького", но воистину обновляющего его рождения. » (Цитируется по книге М.М.Зощенко «Повесть о разуме». Москва. «Педагогика», 1990. См. Послесловие, стр. 175.) Цепляюсь за эту мысль, как за утлый плотик. А вдруг выплыву, а вдруг еще есть, куда плыть, «... А вдруг и не жил ты еще на белом свете,/ Еще и музыка твоя не зазвучала,/ ...Надежду робкую тая,/ Дождись начала.»
Июнь, 1993
|