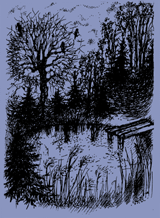Но в хаосе надо за что-то держаться...
Лариса Миллер – интервью Людмиле Полонской
(«Литературная газета», 30 марта, 2005)
Года два назад, приехав погостить из американского далёка в Москву, я услышала во время одной из наших дружеских посиделок: «Ангел бедный, ангел мой, / Отведи меня домой, / Уведи меня из края, / Где, бесшумно догорая, / Дни уходят в никуда /...». Это была песня бардов Галины Пуховой и Михаила Приходько на слова поэта Ларисы Миллер. Песня обо мне и моей судьбе, о бессмысленном и ограниченном существовании на иной планете, о беспросветной череде эмигрантских дней, проживании не моей, чужой жизни... Конечно, речь в стихах идет о небесной тоске человеческой души по оставленному раю, а не о земной суете. Но я считаю, что поэзия не бывает отстраненной, надмирной. Она про всех нас, и каждый может «примерить» ее на себя. Мне она пришлась впору, и захотелось поговорить с автором не только о поэзии, но и о жизни... 29 марта у поэтессы юбилей, но наша беседа получилась без праздничного глянца.
– Лариса, в каждом вашем стихотворении дрожит щемящая нота печали, неминуемой и скорой разлуки... Вот например: «Живем себе, не ведаем, / В какую пропасть следуем, / И в середине дня / Сидим себе, обедаем, / Тарелками звеня...». Будто бы предупреждение всем живущим: цените каждую минуту, ведь все мы временные гости на земле. Можно сказать, что в вашем творчестве преобладает мотив непрочности, хрупкости всего сущего. Изба, которая строится на костях, люлька с младенцем, висящая над бездной, житье-бытье, шитое белыми нитками, – образы, вызывающие отчетливую тревогу, предчувствие приближающейся катастрофы. Откуда это к вам пришло? Почему не покидает?
– Мне кажется, я родилась с этой тревогой, о которой говорю и говорю: «Кругом царят большие числа, / А жизнь на ниточке повисла...». И ведь это правда. Но, наверно, все-таки не вся правда. Глупо думать, что бытие сводится лишь к тому, что мы видим и знаем. И это сознание, что Мир несравненно больше и значительнее того пятачка, который мы обжили и который так боимся потерять, может быть, помогает как-то справляться с этой тревогой. «Лишь тот земную жизнь осилит, / Кто будет поражен навылет / Непостижимостью ее...».
– Наверное, непросто было жить такому ребенку. Помните ли вы, с чего началось ваше детство?
– Воспоминания о самом раннем детстве – это всегда какие-то смутные обрывки, моментальные снимки: отец провожает нас в эвакуацию, идем на вокзал, а я сижу у него на плечах. А ведь это осень 41-го и мне едва исполнилось полтора года. Собственно это мое единственное личное воспоминание об отце, он погиб на фронте и все, что я о нем знаю – это по рассказам близких и его друзей. (Кстати, до войны он работал в «Литгазете», и, когда на 30-летие Победы в редакции вспоминали сотрудников, не вернувшихся с войны, он был в их числе). Другая «картинка»: отчетливо вижу как шарят по небу прожектора воздушной тревоги в Куйбышеве, где мы были в эвакуации. Я бежала за этими лучами, ловила их руками. Но детство, которое я по-настоящему помню, – это послевоенная Москва. До десяти лет я была счастливым ребенком. Любила наш двор на Большой Полянке, сад с сиренью, посаженной моей бабушкой. Оглядываясь назад, понимаю, что жизнь была и убогая и страшная: коммуналка, набитая людьми с горькими судьбами; рядом жил сосед-туберкулезник с умственно отсталой дочерью, которая иногда страшно кричала; всюду инвалиды – жертвы войны; в классе была только одна девочка, у которой был жив отец. Но всё это не нарушало безмятежности моего детского бытия. И сейчас приятно вспоминать как тогда говорили, по-старомосковски: булошная, прачешная, скворешня. Мама пропадала на работе – она была радиожурналистом, я целыми днями гоняла с друзьями по двору. А потом в 1952 году мы переехали, перевод в другую школу совпал по времени с «делом врачей», и меня подвергли остракизму. Я осталась одна в ряду, все одноклассницы сели по трое в двух других рядах. А когда учительница рассказывала про государство Израиль, девочки оглядывались на меня и шептались. И тогда же мне устроили «темную».
– А разве вас не жгла обида на Россию после всего этого, не посещала мысль покинуть ее? Многие тысячи наших соотечественников обрели в США покой для себя и счастье для детей. Правда, они так и остались там чужими, хотя гордо произносят «Америка – наша страна». В этой одноэтажной провинции, где на улице не встретишь ни души, иноязычному творческому человеку чрезвычайно одиноко. Особенно коренному москвичу, привыкшему к ежедневному круговороту событий, встреч, вернисажей, театров, концертов. Знаю людей, испытывавших в этой благоустроенной золотой клетке жесточайшую депрессию, но вернуться они не могли, потому что дети там укоренились.
– Интересно, что такие же слова я слышала от знакомых американцев, которые сравнивали американскую провинцию с Нью-Йорком. Но тут нет никакой объективной реальности. Мы говорим о глубоких личных ощущениях. У меня желания уехать, даже в самые тяжелые годы, не было никогда. Напротив, всегда было ощущение полной невозможности эмиграции. «Господи, не дай мне жить, взирая вчуже, / Как чужие листья чуждым ветром кружит...», – это я писала в начале 70-х, когда начали уезжать друзья. В отличие от многих несчастных семей, которых возможность отъезда просто разрушила, у нас с мужем в этом смысле всегда было одинаковое чувство, что эмиграция – это не для нас. А обстоятельства бывали совсем не простые. Мой муж занимался правозащитной деятельностью, был близок к Андрею Дмитриевичу Сахарову, который также был оппонентом на защите Бориса. Ну а, кроме того, нас тогда все равно бы не выпустили, поскольку Борис 10 лет жил в Сарове, в ядерном центре, учился там в школе, а значит, якобы причастен к государственной тайне. Ну а в новые времена, когда появилась возможность ездить по миру, и мы были в разных прекрасных странах, я только укрепилась в этом чувстве полной для меня невозможности уехать. Да, в России, конечно, какая-то особенно тревожная атмосфера, и, как мы знаем, не без оснований. Но я не могу представить себя вне России, ее природы, языка, уклада жизни, только здесь ощущаю себя самой собой. Не говоря уже о естественности проживания в родной языковой среде. В общем «пишу стихи, причем по-русски, / и не хочу другой нагрузки...». В одном из эссе я писала, что на Западе перестаю ощущать некое вещество жизни: душа немеет, подобно затекшей конечности. Трудно все это объяснить, об этом много говорили и до меня.
– И все-таки в одном стихотворении, датированном 1993 годом, есть такие слова: «Оказаться бы на стрит, / Что витринами пестрит, / Где ни путчей и ни драки, / ни блуждания во мраке...». В нем, сквозь юмор, так и слышится: всё, достали. Тогда, да и сейчас, у многих вызревают такие настроения: бежать из России и детей поскорее вывозить... Вот и я уже убежала один раз. Теперь, когда слышу подобные разговоры, всегда спрашиваю: ну убежите, а что там-то делать будете, без языка, без профессии? Никто об этом почему-то не задумывается. Но вам-то проще, вы окончили Институт иностранных языков, преподаете английский. С языковым барьером нет проблем. Могли бы даже писать стихи и прозу на английском. Бродский и Набоков ведь писали…
– «Но как убегу, если кроме Содома / Нигде не имею ни близких ни дома...» (это стихотворение 1981 года). Желание сбежать от ужаса и безобразия – это ведь совсем не то же самое, что спланированный, продуманный отъезд. А насчет языка, тут все не так просто. Набоков приехал за рубеж почти ребенком. А Бродский... Ну кто относится всерьез к его английским стихам? Все лучшее написано им по-русски, хотя у него есть блистательные эссе на английском. Вообще англоязычная поэзия не похожа на нашу, в ней почти отсутствует рифма. Но с русскоязычными изданиями в Америке я сотрудничаю. Часто печатаюсь в журнале «Вестник», который издается в Балтиморе, посылаю туда и стихи, и прозу, и рецензии. Мне нравится стиль этого издания, чистый русский язык без примесей эмигрантского сленга, от которого меня коробит.
– В том же самом эссе «Вещество жизни" вы назвали Россию «творческой лабораторией Бога», сырьевой базой, где он черпает все необходимое для сотворения мира. Все наши избушки на курьих ножках, невоплощенные замыслы, неприкаянные судьбы, общая несуразица, экзотическая для чужеземцев и надоевшая нам самим... Не страна, а черновик какой-то. И «Сколько причин безутешно рыдать, / Жаждешь общения – время немотное, / Жаждешь полета – погода нелетная, / Жаждешь ответа – глухая стена...». Как вы, поэт, живете, с таким-то грузом? Где та заветная соломинка, ухватившись за которую, можно жить в этом несовершенном мире?
– «Но в хаосе надо за что-то держаться, / А пальцы устали и могут разжаться. / Держаться бы надо... / За старое фото и руку ребенка». Вот и «соломинка». Вообще-то поэтам везде приходится туго. Вредное занятие. Постоянная борьба с мировым хаосом, в собственной душе в первую очередь. Я бы очень хотела найти опору. Мне кажется, учитель или врач тверже себя чувствуют на земле, потому что они заняты конкретным делом. Соседка по даче, биолог, сажает цветы в немыслимых сочетаниях, растит какие-то рекордные урожаи. Вот она знает, чего хочет, и добивается результата. А я принадлежу моим невесомым строчкам, летучим мыслям, эфемерному занятию, не дающему ощущения тверди земной. И все же, когда я пишу, мне становится легче, и мучительное ощущение скоротечности бытия на время проходит. Наступает удовлетворение оттого, что я все-таки уловила мгновение хотя бы на листке тетради.
– И в этом мгновении – образ сада, цветущего или золотящегося осенним огнем... Где он, этот ваш сад? В Теплом Стане, где вы живете, одни новостройки – неподходящее место для поэтического вдохновения.
– В Теплом Стане прекрасный лес прямо рядом с нашим домом. Это просто подарок: «Прозрачных множество полос / С берез, летящих под откос, / Листва потоком...», – это здесь написано, в пяти минутах ходьбы. А в Мичуринце, где мы уже седьмой год снимаем летом дачу, прямо перед нашим крыльцом огромный куст жасмина: «Осыпается жасмин, осыпается / Спит душа моя и не просыпается...». Уж не знаю, сколько стихов появилось благодаря этому цветущему кусту. Я люблю гулять и многое написала «на ходу». Ношу с собой тетрадочку, а иногда из суеверия оставляю ее дома. Вот тогда, как назло, и начинают в голову приходить разные слова и строки, которые не на чем записать.
– Даже в ваших ранних стихах 70-х годов есть слова «Бог», «ангел», «Господь»... В те материалистические времена иные верующие люди опасались их произносить вслух. Однако нужно иметь смелость и даже богоборческое своеволие, чтобы изречь строки немыслимой силы: «В канцелярии нашей небесной канцелярские крысы сидят». Строчки, перекликающиеся с пушкинским: «Но правды нет и выше». Вы, поэт, часто обращаетесь к Высшему Разуму с мольбой продлить радость и муку земного бытия...
– Я не воцерковлённый человек, но считаю, что пишущему быть атеистом невозможно: слишком сильно чувство, что строчки посылаются, диктуются кем-то свыше. Это не мной открыто, многие поэты вели этот диалог и до меня, связь с «голосом вещим» чересчур осязаема, чтобы в нее не верить. Но посредники в этом диалоге мне ни к чему. Для меня Господь – некий Абсолют, к которому я могу обращаться.
– Я вспоминаю слова из интервью Булата Окуджавы: «После пятидесяти лет все вокруг становится суше и холоднее...». Неужели даже у поэта с возрастом эмоции «высыхают», и он теряет первозданное восприятие мира?
– Наверное, правда, что с возрастом какие-то явления уже не вызывают прежних острых реакций. С юношеским «половодьем чувств» расставаться действительно грустно. Но, наверное, на смену приходит что-то другое: «Что бы ни было – плыви / С красным шариком в крови». Этими строками кончается последнее стихотворение в моей итоговой – за 40 лет – книге, вышедшей в прошлом году.
|