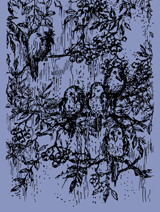|
|
|
|
Это скучное слово УНЫНИЕ, состоящее из двух одинаковых согласных и четырех гласных, одна из которых напоминает тоскливый собачий вой, а прочие настолько узки и тесны, что не впускают ничего значительного. Уныние – это вялость, апатия, атрофия мышц и чувствительности. На мертвой почве уныния ничего не растет. Уныние – грех. С бесчеловечною судьбой В «глухой европейской дыре» Георгия Иванова то и дело что-то вспыхивает, мерцает, сияет, светится: то первая звезда «в тускнеющий вечерний час», то мучительные и сладкие воспоминания о «русском снеге, русской стуже», то просто «рифма заблестит». И сколько бы ни уверял поэт себя и читателя в своем «безразличье к жизни, к вечности, к судьбе», он бесконечно от него далек, и мается его душа и захлебывается от горя и болит от воспоминаний, и плачет по ночам «от жалости и страха». Не надо. Нет, не плачь. Освободиться, забыть себя, потерять чувствительность, избавиться от бесполезного и бессмысленного бытия – вот рефрен его поэзии. Все на свете пропадает даром, Сколько однако энергии, страсти, а значит, и жизни в этом молении о конце. Впрочем, это не столько моление, сколько приказ, усиленный тремя восклицательными знаками: не робей! Разбей! Кончи разом! Слава Всевышнему за то, что Он до сих пор не внял мольбе одного из своих не слишком уравновешенных чад и не покончил «с мукою и музыкой земли», прекрасно сознавая, что и само чадо не вполне уверено, что хочет именно этого. Иначе не написало бы таких строк: Был замысел странно-порочен Это слова другого эмигрантского поэта Владислава Ходасевича, Который, как и Георгий Иванов, долгие годы писал под диктовку отчаяния. О чем? Забыл. Непостижимо. И в этих стихах, как и в молении о конце Георгия Иванова – буря и натиск, стремительность и страсть. Как это ни парадоксально, но отчаяние стало для обоих поэтов мощным источником энергии. Их отчаяние наступательно, активно и любит императив: Перешагни, перескочи, И снова Ходасевич: Жди, смотря в упор, Смотрю в упор, но, вопреки смыслу сказанного, вижу только свет – такой силой воздействия обладает слово «брызжет». Тускнеет в лужах электричество, Случается, что, подпитывая свою тоску, Ходасевич намеренно изгоняет из своего пространства всякий свет, кроме искусственного: Великая вокруг меня пустыня, Но коль скоро поэт скрипит пером, значит что-то ему все-таки светит. Ну хотя бы искра Божья, которая наполняет перо «трепещущим, колючим током», или вспыхнувшая рифма. А вспышка рифмы – это вспышка надежды: «Я чающий и говорящий» (Ходасевич). «Отчаяние – состояние крайней безнадежности, ощущение безысходности» – сказано в Толковом словаре. Но вот парадокс: основную часть этого слова составляет «чаяние», и две крохотных, его отрицающих буквы ОТ ничего не могут с ним поделать. Тем более, что ЧАЯНИЕ – ударная, а значит, самая звучная часть слова. Слова и звуки способны творить чудеса, теряя изначальный смысл и приобретая новый. В зиянии разверстых гласных И внутри отчаяния, внутри его разверстых гласных обоим поэтам удавалось дышать «легко и вольно». Лети, кораблик мой, лети, Спасенья нет, но есть великий дар превращать энергию отчаяния в созидательную. С бесчеловечною судьбой – восклицает Иванов. Как совладать с судьбою – дурой? – вторит ему Ходасевич. Но вот и выход: Сосредоточенный и хмурый Жесткие, совсем непоэтичные слова. Да и может ли скрипач, чья душа «мытарится то отвращеньем, то восторгом» ублажать чей-то слух? Вряд ли. Но зато он способен заставить внемлющего ему пережить то, что познал сам – «дрожь, побежавшую по коже / Иль ужаса холодный пот». Наверняка и Иванов и Ходасевич временами теряли отчаяние и впадали в уныние, не дающее плодов. И все же отчаяние, слава Богу, побеждало, диктуя странные безысходные, но и ослепительные строки: Сияет соловьями ночь, 1997 |