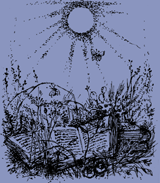|
«Как я хочу, чтоб строчки эти / Забыли, что они слова, / А стали небо, крыши, ветер, / Сырых бульваров дерева!» (Вл. Соколов). Желание вполне понятное, но трудно выполнимое. Выскочить из слов – задача столь же непосильная, как и воплотиться в слово. Жизнь – борьба. А жизнь поэта – ещё и борьба ЗА слово, СО словом и ПРОТИВ него. Казалось бы, достаточно и первых двух этапов. Счастливо найденное слово вполне может стать самоцелью. Тем более после изматывающей возни с ним, которую наглядно продемонстрировала Ирина Токмакова в детском стихотворении «Невпопад»:
На помощь! В большой водопад
Упал молодой леопад!
Ах нет! Молодой леопард
Свалился в большой водопард.
Что делать – опять невпопад.
Держись, дорогой леопад,
Верней, дорогой леопард!
Опять не выходит впопард.
И всё же стремление освободить «леопарда», выпустить его из словесной западни на волю – неистребимо. Но возможно ли это?
Я вышел из кино, а снег уже лежит,
и бородач стоит с фанерною лопатой,
и розовый трамвай по воздуху бежит –
четырнадцатый, нет, девятый, двадцать пятый.
Однако целый мир переменился вдруг,
а я всё тот же я, куда же мне податься,
я перенаберу все номера подруг,
а там давно живут другие, матерятся.
Всему виною снег, засыпавший цветы,
до дома добреду, побряцаю ключами,
по комнатам пройду – прохладны и пусты.
Зайду на кухню, оп, два ангела за чаем.
Свершилось! Строчки забыли, что они слова и стали снегом, бородачом, лопатой, розовым трамваем, бегущим не по бумаге, а по воздуху. Ничего бумажного нет в этих стихах. Всё можно потрогать, понюхать, услышать, увидеть.
Поэт ловил и поймал мир в свои сети. Поймал, чтоб снова отпустить на волю (не случайно «воля» и «улов» близки по звучанию). Но отпустить иным, ПРЕОБРАЖЁННЫМ – таким, где трамвай летит по воздуху, а на кухне сидят за чаем два ангела. Не попади эта кухня в плен к поэту, не было бы и ангелов. Таков эффект этого странного плена. Странного – потому что не вполне ясно кто у кого в плену: поэт у мира, мир у поэта или они – друг у друга. Во всяком случае, пленённый поэтом мир выходит на свободу ещё более пленительным и ярким. Вопрос в том, как ему, то есть миру, удаётся вырваться из плена. Вернее, как удаётся поэту выпустить его. А ещё конкретней, как сиё удалось Борису Рыжему – автору приведённого выше стихотворения.
Возможно, помогла не слишком плотная словесная кладка, оставленные между словами щели. А, может быть, – лёгкость перехода из одного регистра в другой, из высокого в низкий. Тут тебе и киношка, и телефон, и матерок, и невесть откуда появившиеся ангелы. (Помните – «побряцаю ключами»? Уж не от рая ли?) Но и небожители заняты вполне земным делом – чаепитием. Ведь жизнь именно так и идёт – на всех этажах сразу. Или «виновата» интонация – одновременно элегичная и будничная, насмешливая и романтичная.
Говоря об интонации, нельзя не вспомнить Чичибабина с его особой чичибабинской (другого эпитета не подберу) интонацией, благодаря которой его лучшие стихи никогда не будут просто словами.
Сними с меня усталость, матерь Смерть.
Я не прошу награды за работу,
но ниспошли остуду и дремоту
на моё тело, длинное как жердь.
...
Одним стихам вовек не потускнеть,
Да сколько их останется, однако.
Я так устал! Как раб или собака.
Сними с меня усталость, матерь Смерть.
Скорей всего останутся именно те стихи, которые забыли, что они – стихи. «Усталость», побывав в словесном плену поэта, вышла из него не только чичибабинской, но всечеловеческой, вековой. Это уже не слова. Это вселенский вздох.
Трудно в точности определить почему одни стихи – пусть виртуозные, блестящие – остаются словами, а другие – хоть и не столь совершенные – не помнят, что они слова. У одного и того же поэта можно найти и то и другое.
Кто ранит нас? Кто наливной ранет
надкусит в августе, под солнцем тёмно-алым?
Как будто выговор, – нет, заговор, – о нет,
там тот же корень, но с иным началом.
Там те же семечки и – только не криви
душой, молитву в страхе повторяя.
Есть бывший сад. Есть дерево любви.
Архангел есть перед дверями рая
с распахнутыми крыльями, с мечом –
стальным, горящим, обоюдоострым.
Есть мир, где возвращенье не при чём,
где свет и тьма подобны сводным сёстрам...
Бахыт Кенжеев
Слова, слова, слова, которые плохи лишь тем, что слишком хороши, слишком благозвучны и нарочито аллитерированы, слишком тесно пригнаны друг к другу – ни щёлочки, ни просвета. Они, как гладкая стена, где не за что зацепиться. А ведь тот же поэт сказал: «Сквозь внезапную трещину в разговоре – / вспышка света...». Нет здесь этой трещины. А в других его стихах есть: «это личность по имени «я» / в тёплых, вязких пластах бытия / с чемоданом стоит у вокзала / и лепечет, что времени мало, / нет билета – а поезд вот-вот / тронется, и уйдёт, и уйдёт...».
Как это ни парадоксально, но слова, оставшиеся словами, теряют дар речи. Онемевшие слова – проклятие поэта. И нет никаких инструкций для желающих избежать подобной немоты. Есть только счастливые примеры, на которых всё равно ничему не научишься:
Гляжу на грубые ремёсла,
Но знаю твёрдо: мы в раю...
Простой рыбак бросает вёсла
И ржавый якорь на скамью.
Потом с товарищем толкает
Ладью тяжёлую с песков
И против солнца уплывает
Далёко на вечерний лов.
...
Тогда встаёт в дали далёкой
Розовопёрое крыло.
Ты скажешь: ангел там высокий
Ступил на воды тяжело.
И непоспешными стопами
Другие подошли к нему,
Шатая плавными крылами
Морскую дымчатую тьму.
Клубятся облака густые,
Дозором ангелы встают, -
И кто поверит, что простые
Там сети и ладьи плывут?
Вл. Ходасевич
Удачный лов. Удачный потому, что всё пойманное выпущено на волю через огромные отверстия в сетях (одна строка со множеством зияющих гласных чего стоит: «Шатая плавными крылами»).
В который раз – ангел, в который раз – рай. Но поди пойми почему у одного ангела крылья живые, а у другого – бумажные. Почему в одном случае, когда мне говорят: «Но знаю твёрдо: мы в раю», – верю на слово, а в другом...
2000
|