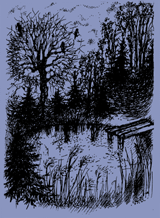|
В 17 лет я почему-то перестала спать. Всю ночь лежала с открытыми глазами, а под утро впадала в полузабытьё: слышала всё, что происходит за окном или за стеной, но не могла пошевелиться. А тут ещё наши старые часы на буфете шипели и дзинькали каждые пятнадцать минут. Эти с младенчества знакомые и столь любимые мной звуки стали ненавистным и навязчивым фоном моей свирепой бессонницы: «Ш-ш-ш дзинь, ш-ш-ш дзинь, не спишь-шь-шь дзинь, не спишь-шь-шь дзинь», – издевались они.
Мама повела меня к московскому «светилу» – старому доктору, жившему в одном из арбатских переулков. Его просторный кабинет походил на антикварный магазин: причудливой формы вазы, пушистые ковры, увитая фарфоровой виноградной лозой лампа на столе, под лампой – чернильница в виде разверстой львиной пасти, рядом изящные бронзовые пальчики, сжимающие пачку чистых рецептов. Но главное, что приковало моё внимание, – это часы: напольные, настенные, настольные, с гирями, с маятником, с кукушкой – они непрестанно тикали, а в положенное время издавали разнообразные звуки: от высоких и мелодичных до низких и грубых. После стольких бессонных ночей, проведённых под шипенье и дзиньканье домашних часов, придти за помощью туда, где, казалось, не было ничего кроме гуденья, звона и боя часов самого разного калибра – это ли не насмешка судьбы? Это ли не зловещий знак?
«Светило» вошло бесшумно и пригласило меня сесть поближе к столу. Маленькое лысое оно, сладко улыбаясь, принялось допытываться не является ли моя бессонница следствием несчастной любви. Убедившись, что не является, оно поскучнело и, вытянув из бронзовых пальчиков чистый рецепт, выписало люминал. Тот самый, который глотала мама, когда не могла уснуть. Мне надлежало принимать его за полчаса до сна, а потом идти на прогулку. После люминального моциона я возвращалась домой разбитая, вялая, сонная, бухалась в постель, но, ненадолго забывшись сном, тут же просыпалась, чтоб снова слышать: «Ш-ш-ш- дзинь, ш-ш-ш- дзинь. Не спишь-шь-шь дзинь? Не спишь-шь-шь дзинь?»
Убедившись, что от люминала проку нет, мама призвала на помощь бабушку, для которой не существовало безвыходных ситуаций. Она стала ежевечерне проделывать путь из своего Лефортова к нам на Павелецкую, чтоб, действуя личным примером, доказать мне, что нет ничего проще, чем спать. Бабушка ловко расставляла раскладушку и, весело пожелав мне спокойной ночи, мгновенно засыпала. Теперь к шипению и звону прибавился бабушкин энергичный храп. Утром, едва проснувшись, она поворачивалась ко мне и, увидев мою унылую физиономию, восклицала: «Быть не может, чтоб ты не спала!». Решительно поменяв тактику, бабушка самоотверженно бодрствовала часть ночи, рассказывая мне разные истории или читая вслух. Но постепенно голос её слабел, речь становилась невнятной, и она засыпала. Продержавшись месяц, бабушка сдалась. То есть она продолжала звонить маме, чтоб получать сводки с фронта, но ночевать у нас больше не оставалась. Из всех мероприятий по спасению меня, которых, наверное, было немало, помню только одно – перемещение из большой проходной комнаты в более тихую маленькую, где я оказалась лицом к окну, за которым раскачивался на ветру негасимый фонарь. Зимой вокруг него плясали снежинки. «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.» Лишнее зачеркнуть. Лишней была аптека. Всё остальное повторялось с назойливым постоянством. Теперь, когда мы с часами оказались в разных комнатах, они звучали приглушенно, что, как ни странно, стало для меня источником дополнительных мучений. Отныне мне приходилось напряжённо вслушиваться, чтоб, не дай Бог, не пропустить очередную порцию издевательского шипения. Это вслушивание так меня изматывало, что я всё чаще впадала в полусонное состояние, благодаря которому, наверное, и держалась.
Долго ли, коротко – но спас меня труд. Тот самый, что создал человека. 18-ти лет от роду, меня, первокурсницу, отправили на целину. То есть, туда, где степь, ковыль, небо, звёзды, элеватор и зерно, зерно, зерно. Если мне что и снилось тогда, то потоки зерна, которое я выкидывала плицей из вагона, сгребала лопатой со дна грузовика, вытряхивала из резиновых сапог, но которое шло, шло и шло, грозя подмять и раздавить меня. Сон мой был крепким, но коротким. Коротким потому, что спать было некогда: то страда, то гульба. Но, едва добравшись до лежащего на полу матраца, я немедленно засыпала. Слава Труду! Слава степному воздуху! Слава прогулкам под луной.
Но и бессоннице слава. Благодаря ей одной я услышала ход времени в том нежном возрасте, в котором о нём обычно понятия не имеют. Услышала как оно идёт – безостановочно и неумолимо. И не только услышала, но и вступила с ним в сложные, сугубо личные отношения: время дразнило меня, пугало, повергало в отчаяние. Оно стало моим кошмаром, бредом, единственным недремлющим свидетелем моей бессонницы, и по иронии судьбы олицетворяли его старые добрые часы с фигуркой безмятежно читающей женщины. Те самые, которые всё детство были для меня символом тишины и уюта. Онемевшие и ослепшие после неудачного ремонта, они и сегодня живут в моём доме, не ведая, какую сложную роль играли в моей судьбе.
Излечившись от бессонницы, я так и не избавилась от порождённой ею болезни. Как она зовётся – не знаю. Может быть, мания времени, хроническая хрономания. Долгие ночи, проведённые под тиканье и звон часов, не прошли даром. Время навеки загипнотизировало меня, околдовало, приворожило, приучило ловить каждый его вздох и шорох. Когда в начале 60-ых я начала писать стихи, одно из первых было посвящено часам, которые «в меня как будто встроены... / Чуть что, они: "тик-так, тик-так / Не так живёшь, не так, не так"». С той поры я и твержу: время, время...
|