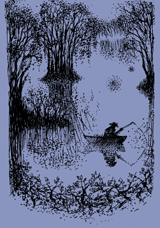|
|
|
|
Леонид Аронзон. Смерть бабочки. – «Гнозис-пресс» – «Дайамонд-пресс». Имя питерского, вернее, ленинградского поэта Леонида Аронзона, погибшего в возрасте 31 года в 70-м году, я впервые услышала не в России, а в Лондоне от английского переводчика Ричарда Маккейна. По всему было видно, что Маккейн влюблён в поэзию Аронзона: он то и дело цитировал его строки и упоминал его имя в разговоре. Ричард переводил стихи Аронзона более двадцати лет – с тех самых пор, как узнал о нём от своих друзей Аркадия Ровнера и Виктории Андреевой. При жизни Аронзон не напечатал ни строки. В новые времена вышли два его сборника – в 90-м и 94-м. Только что изданная книга «Смерть бабочки» с параллельными переводами на английский Ричарда Маккейна, пожалуй, самое полное собрание стихотворений поэта. На груди моей тоски Аронзон – «пограничник» ещё и потому, что живёт на границе бытия и небытия, близость которого ощущает постоянно (не отсюда ли такое острое чувство жизни). Напротив звёзд, лицом к небытию, Если в августовскую ночь 67-го года, когда были написаны эти строки, поэт выбрал жизнь, то в октябрьскую ночь 70-го выбрал смерть (или она его выбрала). Произошло это в горах под Ташкентом, куда он уехал отдыхать и путешествовать. Уехал не один, а с женой, которой посвящены все его стихи о любви: «Красавица, богиня, ангел мой, / исток и устье всех моих раздумий...». В ту роковую ночь жены рядом с ним не было. В одиночестве бродя по горам, он наткнулся на избушку пастуха, где обнаружил охотничьё ружьё. Выйдя из избы, Аронзон застрелился. По свидетельству хорошо знавшей его Ирины Орловой, этот выстрел не был актом отчаяния, скорее экспериментом, желанием слегка себя ранить, чтоб почувствовать, как это бывает. Рана оказалась смертельной. «Просто в тот день в горах было очень красиво», – заключает свои воспоминания Ирина Орлова. Боже мой, как всё красиво! Не найдя, куда бы отвернуться, поэт выстрелил, перейдя границу, которая всегда его гипнотизировала. Как хорошо в покинутых местах! Кажется, поэт просто спутал мгновенье и вечность, сон и явь, жизнь и смерть: «Жизнь... представляется болезнью небытия... О, если бы Господь Бог изобразил на крыльях бабочек жанровые сцены из нашей жизни!» («Стихи в прозе»). Бабочки, стрекозы и всякая прочая живность великолепно себя чувствуют на страницах его книги. И этим, как, впрочем, и интонацией, Аронзон напоминает Заболоцкого: «Где кончаются заводы, / начинаются природы. / Всюду бабочки лесные – / неба лёгкие кусочки – / так трепещут эти дочки,... / что обычная тоска / неприлична и низка.». Аронзон не боится ни своих обэриутских интонаций, ни ветра Хлебникова, который временами залетает в его стихи. Он ОКЛИКАЕТ старших поэтов, но не подражает им. Что бы Аронзон ни писал – рифмованные стихи, верлибры, стихи в прозе, – он всегда узнаваем, самобытен, и абсолютно самостоятелен. И бьётся слабый человек, Но если слабый человек роняет перья, значит у него есть крылья, и он способен подниматься к небесам, отношения с которыми у поэта весьма короткие, почти домашние. Он даже свою любимую способен увидеть, глядя в небо: «От тех небес, не отрывая глаз, / любуясь ими, я смотрел на Вас». У Аронзона и с Богом особые отношения: «боксировать с небом (Богом)», – читаем мы в его «Записных книжках». Поэт постоянно чувствует Его присутствие и пишет под Его диктовку («Придётся записывать за Богом, раз это не делают другие»). А записывать занятие трудоёмкое: надо напряженно вслушиваться и всё ловить на лету. Иногда хочется передышки, паузы. Не отсюда ли запись: «Где-то Ты не должен быть, Господи». Но когда пауза наступает, когда Бог молчит, вернее когда поэт перестаёт его слышать, наступает мёртвая тишина, которая, кажется, будет длиться вечность. Вот откуда этот образ качелей, к которому поэт то и дело возвращается в своих записных книжках: «Качели... возносили меня и до высочайшей радости и роняли до предельного отчаяния..., но всякий раз крайнее состояние казалось мне окончательным». А вот одна из последних записей: «Качели оборвались: – перетёрлись верёвки». Наконец самые последние строки: «Я хотел бы отвернуться. Катастрофа – закрытые глаза». Поэт не выдержал нестерпимого света, нестерпимого жара жизни, не выдержал взлёта, за которым непременно следует спад. 1998 |